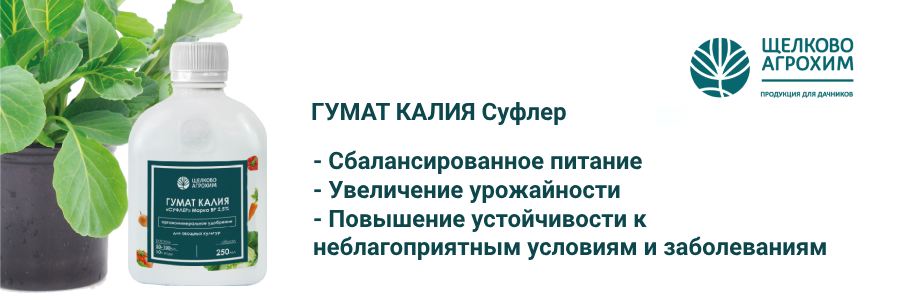Мы давно хотели спросить известного челябинского поэта Яниса Грантса о секретах его творчества. Наконец-то договорились о встрече: Кировка, у верблюда. Оказалось, что ближайший угловой дом — особенный для героя интервью:
— Когда я работал над повестью «Луи с грабаркой» о посещении строительства ЧТЗ французским поэтом Луи Арагоном (интернациональная писательская бригада приезжала сюда в 1932 году), то задумался: а где же он жил в нашем прекрасном городе? Работа в архивах не принесла результатов. Историк и краевед Гаяз Самигулов предложил поселить Арагона в этот четырехэтажный «небоскреб» (он уже стоял в те времена — представляете?), что я и сделал. Думаю, скоро на доме появится мемориальная доска: «Здесь останавливался выдающийся французский поэт…» Так литературная фантазия станет фактом истории.
— Это пример того, что литература и жизнь иногда меняются местами?
— Так тоже бывает. Неоспоримо одно — литература и жизнь оказывают друг на друга мощное воздействие. Хотя я не очень верю, что литература влияет на нашу жизнь напрямую. Скорее — опосредованно. Примерно так: ты читаешь стихи, что-то с тобой происходит, ты волнуешься и понимаешь, что должен помириться с другом, позвонить маме, приютить бездомную собаку. То есть ты должен совершить какой-то поступок. При этом стихи были не о друзьях, родителях и бездомных животных. Это были стихи, которые повлияли на тебя не темой, а настроением, интонацией, авторским мастерством.
Как летают их мысли, и бродит душа…
— Как сочиняет стихи Янис Грантс? Можете поделиться секретами своей творческой кухни?
—Я, как вы знаете, пишу и для детей, и для взрослых. Это принципиально разные алгоритмы. Для детского стихотворения мне нужна готовая история — светлая, остроумная, веселая. Сам сюжет я могу придумать, подслушать, увидеть. Моя задача при этом как бы превращается из творческой в техническую: я должен так уложить готовые слова в строчки, чтобы хотелось позавидовать себе самому. Это непросто, но гораздо легче, чем писать «взрослый» текст. Всюду говорят, что детские стихи писать сложнее… У меня все наоборот.
Когда же я пишу взрослое стихотворение, то у меня нет ни готовой истории, ни внятного замысла. Однажды я видел передачу «Линия жизни», в которой на вопросы из зала отвечал один из крупнейших поэтов современности Сергей Гандлевский. Оказывается, все его стихи (как и мои) начинаются с одного или двух слов. По непонятной причине эти два слова (порой — самые простые: поезд, ветер, лампа) вдруг начинают тебя волновать, ты крутишь их так и эдак, сталкиваешь их с другими словами, навешиваешь на них новые фразы. А еще мне по душе то, что сказал один из старейших поэтов современной России Юрий Ряшенцев (родился в 1931 году). Именно он когда-то придумал «пора-пора-порадуемся на своем веку…», и вообще все тексты к песням того невероятного фильма про мушкетеров написал он. Так вот, в передаче «Игра в бисер» он сказал, что если поэт знает, чем закончится его стихотворение, то это изложение, а не сочинение.
Итак, все мои стихи начинаются с какого-то услышанного, прочитанного, придуманного слова (ну, или двух). Я называю его паролем стихотворения. В ходе работы пароль может совсем пропасть из текста, но свою главную роль при этом он уже сыграл. Замысла, повторюсь, нет. Но есть какое-то волнение, какой-то особый ритм работы головы и сердца. Концентрация всех твоих творческих (и физических — тоже) сил на кончике стержня шариковой ручки. Таинство. Я работаю долго, правлю бесконечно. Для стихотворения, в котором останется шестнадцать строк, может быть написано сто шестьдесят. Момент написания стихов — момент счастья. Это я доподлинно знаю.
После наступает восторг: наконец-то главное стихотворение жизни — программное, небывалое, самое-самое — написано. Но уже через два дня оказывается, что все не так. И восторг сменяется усталостью, обидой, разочарованием, иногда — отчаянием.
Доля безумия, что бы добиться успеха
— Разочарование и отчаяние? Не ожидаешь услышать такое от успешного поэта… Кстати, об успехе — как его добиться в литературном деле?
— Этот простой вопрос не так прост. Самый предсказуемый ответ: «Десять процентов таланта и девяносто процентов работы». Да, пахать надо — тут не возразишь. Но кто определил, что ты вообще талантлив? И что такое успех?
Мне кажется, что «успех» — это термин из области глянцевых журналов и шоу-бизнеса. Именно там его можно, что называется, ощутить. Меня же никто не узнает на улицах, не дергает за рукав в магазинах, не достает в соцсетях. Нет, есть какое-то узнавание в профессиональной среде. Есть стихи, внесенные в хрестоматии по литературе родного края. Есть строчка в биографии (ее особенно любят озвучивать библиотекари, которые представляют меня на встречах со школьниками и студентами): имя Яниса Грантса внесено в список ста лучших поэтов России по версии журнала «День и Ночь». Есть литературные премии.
Но популярность, известность, успех для меня (повторюсь) — это все же какая-то глянцевая история. Что-то типа: «Когда Рома Зверь приехал в Москву, то у него было сто рублей в кармане и разломанная гитара. А теперь он — звезда…» Ну, и так далее.
Наверное, ваш вопрос все же не об этом — не об эстрадной славе. Скорее ваш вопрос о том, чувствую ли я себя востребованным, не жалею ли о том, что с головой окунулся в литературный процесс. Ответ: я на своем месте, мне нравится писать стихи и прозу, и переводить, и «гастролировать» со своими детскими и взрослыми текстами. Знаю только, что я счастлив именно в минуты сочинительства. А в другие минуты, часы и дни — не очень.
— Поэт — это миссия? Поэты — избранная каста?
— Мне не нравятся разговоры об избранности. Может, потому что я прошел школу нескольких литературных объединений. Там попадались интересные личности. Одни считали себя миссионерами, которые научат нас, несмышленышей, жизни. Они, вероятно, и думали о себе как о касте избранных. Другие сидели по углам и делали вид, что их нет. Это — обратный пример: литература обойдется без меня, я вот просто рассказики пописываю. Это так, баловство.
Мне кажется, что сегодня писатель — это не наставник, не учитель, не пророк, не обладатель незаурядного ума, а… фотограф. Он фиксирует происходящее, калькирует действительность. Его зоркий глаз и современный язык помогают людям самим разобраться в том, в чем они хотят разобраться.
— Можно ли научить писать стихи человека, скажем так, с улицы?
— Я думаю, что написать стихотворение может каждый. Это касается, прежде всего, таких твердых форм, как синквейн, хокку, лимерик. Существуют целые методички на этот счет. А такие современные формы поэзии, как блэкаут, фларф, найденная поэзия вообще не требуют никакой предварительной подготовки.
Но это техническая составляющая. А она, уверяю вас, не самая главная. Главное — мысль. С этим возникают проблемы не только у начинающих стихотворцев. Да, можно научиться писать стихи, но научиться мыслить в этих стихах — труднее.
Превращать обычное в необычное…
— Продолжите фразу: «Творчество для меня — это…»
— Думаю, что продолжение этой фразы может иметь социальный, что ли, вектор, а может — художественный. Начну с того, что я назвал социальным вектором. Мне не нравится, когда люди говорят, что это главное в их жизни. Таким образом, они как бы назначают себя некими миссионерами, учителями, провидцами, словом, людьми, которыми, по всей видимости, не являются. Но мне не нравится и обратное, когда люди говорят: до меня все сказано, я песчинка, мой голос потонет в миллионах других голосов. Что до тебя сказано? История творится и в эту самую секунду, у нас на глазах. И о ней — об этой секунде — еще не сказано ни слова. Мне не нравится, когда люди называют написание стихов работой или профессией, потому что это никому еще не принесло денег, а профессия должна кормить. Мне не нравится, когда люди говорят, что это их хобби, поскольку хобби — занятие любимое, но все же необязательное. Так вот, в этом условном социальном контексте творчество для меня — это страсть. Страсть — высшая, нервная и быстропроходящая точка любви, что-то неустойчивое и невечное, но то, без чего ты именно сейчас не можешь обойтись.
А если определять творчество с художественной, что ли, точки зрения, то я воспользуюсь определением американской поэтессы Марианны Мур, писавшей в 60-70-е годы прошлого века. Она так говорит о поэзии, но я скажу так о творчестве в целом: «это воображаемый сад с реальными жабами в нем». В этом определении есть воображение и реальность, прекрасное (сад) и гадкое (жаба), но есть и подвох: в какой-то момент воображаемый сад может превратиться в реальный непроходимый лес с чудищами и страшищами, а жаба возьмет да и обернется прекрасной царевной.