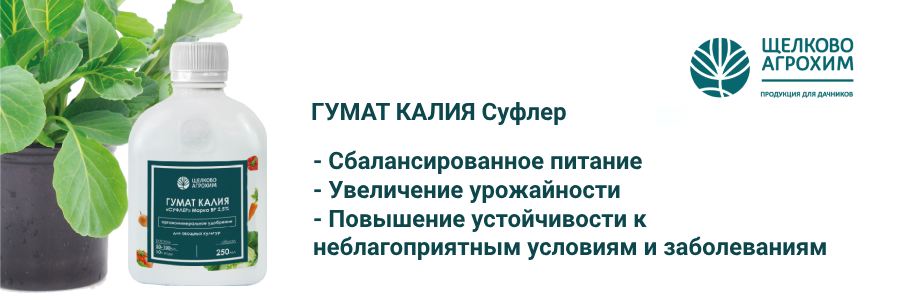24 июня свой юбилей отмечает Генриетта ЯНОВСКАЯ, народная артистка России, главный режиссёр Московского ТЮЗа. Вместе со своим мужем, выдающимся режиссёром Камой Гинкасом, Яновская превратила Московский ТЮЗ в настоящий бастион высокого и бескомпромиссного театрального искусства. Девочка из ленинградской коммуналки, которую сам Георгий Александрович Товстоногов взял учиться режиссуре в её 23 года, Яновская никогда не ставила спектакли просто так. Для галочки или гонораров. Её искусство замешано на личной боли, личных переживаниях жизни и культуры, собственном мироощущении. Сегодня мастер режиссуры в гостях у читателей «АН».
Зритель в конусе
– Я часто читаю такие рассуждения – мол, нет уже замечательной театральной публики, воспитанной БДТ и «Современником», и думаю: что ж нас заживо-то хоронят. Вот я – ваша публика, Генриетта Наумовна, я смотрела «Вкус мёда» в Ленинграде, один из первых ваших спектаклей, и чудесные гастроли Красноярского ТЮЗа в 1973 году, с вашими и Гинкаса постановками. Невероятно умные и притом заразительные спектакли! В самом ли деле с тех пор изменилась публика?
–Понимаете, каждый театр отбирает своего зрителя. Уже за первый год нашей работы с Гинкасом в Московском ТЮЗе отобрался тот слой публики, которой интересны парадокс, неожиданное решение, проблемы человеческого, извините, духа.
Часто зритель считает, что он судит театр – но и сцена судит зрительный зал после спектакля. Мы с актёрами говорим о том, какой сегодня был зал. Когда зал умный, актёры куда лучше себя чувствуют.
Я часто рассказываю о «конусе театра». В вершине конуса – в этой маленькой точке – должна лежать элементарно понятная вещь, доступная любому, кто зайдёт. И тёте Мане, и академику Сахарову. А дальше произведение идёт по конусу, расширяясь, автор может иначе смотреть на знакомую проблему, его взгляд, количество ассоциаций, мыслей, оригинальности расширяют этот конус.
Я упомянула академика Сахарова, потому что он смотрел мой спектакль «Собачье сердце» со своим внуком лет одиннадцати. Но Червинский, автор инсценировки, привёл своего сына совсем маленького, лет 4–5, я спросила у него: «Ты смотрел такой длинный спектакль, как же ты это пережил? Тебе кого-нибудь было жалко?» Он сказал: «Да, собаку. Потому что была хорошая собака и стал плохой человек». Так ответил ребёнок, он взял свою «точку в конусе». От того, насколько театр способен дать зрителю это расширение конуса, и зависит твой зритель.
И Товстоногову было страшно
– Вы учились у Товстоногова, необыкновенного, гипнотического человека. Знал ли он страхи, сомнения? Боролись ли вы с его магическим влиянием, чтобы не потерять себя?
– Никакой борьбы. Я была белым листом, на котором можно было писать что угодно. Товстоногов почти не вёл никаких теоретических занятий. Важно было другое – как он репетировал, как он смотрел наши отрывки. Думаю, что какое-то время он, наверное, считал меня идиоткой, потому что, когда я должна была что-то ему сказать, у меня скулы сводило от страха.
Но когда мы заканчивали институт, сын Товстоногова и мой однокурсник Сандро передал мне одну его фразу. Ко мне на репетицию хотел прийти главный режиссёр театра, так Товстоногов сказал Сандро: «Скажи, чтобы она его не пускала, она и сейчас умеет больше, чем он». Вот эта фраза, кинутая учителем, дорогого стоит. А насчёт сомнений Гинкас рассказывал вот что. У него длительный период не было спектаклей, и вдруг он получил работу и столкнулся с Товстоноговым в Доме актёра. Тот наклонился к нему и спросил: «Страшно?» И стало понятно – он знает, что такое страшно. А ещё он сказал однажды такую фразу: «Когда выпускаешь спектакль, думаешь – ну столько раз проносило, может, и на этот раз пронесёт?» Неслабо? Это великий Товстоногов.
– Товстоногов утверждал: у спектакля должен быть фундамент. Если нет фундамента, никакие башенки, балкончики, купола не спасут. А что такое фундамент спектакля?
– Фундамент – это те человеческие взаимоотношения, те судьбы, которые являются основой. Мясо! В спектакле не должно быть жира, в нём должны быть мышцы. Построение. Особенностью Товстоногова было построение спектакля как здания. Оно не должно падать. Режиссёр должен быть натренирован говорить глаголами, а не общими понятиями. «Вот здесь у тебя волнующие ощущения мира, которые ты, может быть, сможешь передать»... Нет! Режиссура – глагольная профессия. Представление, сделанное за три дня – за неделю, может быть замечательно как заявка, как мысли, как пробы, но теперь у людей появляется ощущение, что они сделали работу – и это страшно. Потому что это не спектакль, это не жизнеспособный организм, он не сможет жить и развиваться.
Муж и жена, а больше ничего общего
– Беспримерный творческий жизненный союз – Генриетта Яновская и Кама Гинкас. Это уже какая-то страшная цифра – чуть ли не полвека.
– Меньше чем через месяц, если мы не развёдемся, будет пятьдесят один.
– В истории театра один только был случай, когда два равновеликих режиссёра действовали в одном театре – Станиславский и Немирович-Данченко, но они не состояли в браке.
– Они даже в конфликте состояли и не разговаривали.
– У вас и Гинкаса явно есть общие базовые ценности, но нет никакой стилистической общности! Совершенно разные вы режиссёры и друг другу не подражаете. Как так получается?
–Да, не похожи мы. Совсем не похожи. Может быть, потому что относимся друг к другу в достаточной степени бережно? И в творческом отношении тоже. Например, Гинкас отказался ставить «Иванова», когда ему предложили, потому что есть «Иванов и другие», мой спектакль. Ну а я, по-моему, никогда не хотела делать те постановки, которые делал Гинкас. Достоевского, например.
Мы разные. Вот в прошлом сезоне мы сделали спектакли о любви, я – «С любимыми не расставайтесь» по Володину, а он – «Леди Макбет нашего уезда» по Лескову. Два спектакля о любви – мы так назвали их рекламно. Хотя, конечно, «Леди Макбет» – о свободе, о личности, о России.
«С любимыми не расставайтесь» – тоже спектакль о России. Но с другой стороны. В нём есть отчаяние и всё равно надежда.
Люблю разнообразную жизнь!
– Я заметила, в вашем отношении к пьесам нет никакого якобы интеллектуального, а на самом деле совершенно мещанского снобизма. То есть когда Бах – это да, а Оффенбах – это ерунда, лёгкий жанр, Шекспир – это о-го-го, а Агата Кристи – чтиво. Маршак какой-то – что за Маршак? А вы преспокойно ставите Оффенбаха, Агату Кристи, Маршака!
– Когда я поставила пьесу Агаты Кристи «Свидетель обвинения», было больше театральной критики, чем сейчас, – сейчас она почти кончилась, превратилась в журналистику, причём странного пошиба. И я прочла одну статью, в которой критик хорошо отзывался о спектакле, но была горькая фраза: «Даже Яновская, которая никогда не была замечена ни в какой конъюнктурности, поставила Агату Кристи». Ребята, ну если вы ко мне так уважительно относитесь, спросите меня, почему я это делаю! Я с наслаждением это делала! Так же с наслаждением я делала оперетту Оффенбаха. Я очень люблю разнообразную жизнь! У самого Чайковского рядом с партитурами лежали карты для пасьянсов... Мне интересно, когда играют игровые автоматы. Мне интересно, когда я, задыхаясь от волнения, пытаюсь понять, чем меня обманывает театр. Потому что я многое люблю и с удовольствием читаю и детективы хорошие, и фантастику.
– Вы когда-то сказали, что никогда не помышляли об эмиграции.
– Раньше нет. Мы созданы русской культурой, она сидит в кишках внутри. Это во-первых. Во-вторых, мы же народное искусство, у нас народ в зале сидит, и мы должны иметь одну биографию всё-таки. Мы так считали. У нас должны быть общие ассоциации.
Конечно, где-то в 80-х, в начале, была мысль, что надо уехать, но тогда уж прощай, профессия.
В управлении культурой вижу непонимание и безграмотность
– Одна женщина, настоящий театральный волк, много где работала, сказала, что вот ругала она советскую систему управления театрами, а сейчас не знает, что и думать. Замучили какими-то циркулярами, бумагами, контролем...
– Думать тут нечего. Патологическая безграмотность. Абсолютное непонимание природы театра, где не предполагается вообще творческое начало. Ты должен всё заранее расписать, что у тебя будет. Тебе надо работать с художником, ты должен заранее дать смету. Какую? Мы даже ещё не знаем, в какую сторону мы пойдём. И так далее. А начинать работать без этого ты не можешь.
Я не хочу даже говорить о количестве вырубленных лесов. Количество писем, папок, отчётов. Уровень безумия по созданию новых рабочих мест для начальников невероятен. Новые комиссии. Мы не можем купить ручку за 50 рублей или декорацию сделать за 100 рублей, потому что мы должны только на электронной площадке покупать, а там не 50 рублей, а 120. Там декорацию тебе сделают дороже втрое. Мы обязаны тратить деньги бессмысленно, видимо, исходя из предположения, что иначе мы украдём.
– То есть для бюрократов вы существуете не как творческая единица, а как сомнительный завод.
– В том, что это произошло, мы тоже виноваты. Режиссура – профессия одиночек. Когда стали принимать эти законы, я даже была на одном серьёзном совещании у Грефа, где пыталась биться, объясняя, что мы – не предприятие. Наука, которая занимается миром, и театр, который занимается человеком и миром, – это другое совершенно, так нельзя. Он очень внимательно меня выслушал и задал гениальный вопрос: «А как это можно применить для стоматологической клиники?» Я говорю – мы не сфера обслуживания. Мы не стоматологическая клиника. Ужас в том, что театр превращают в сферу обслуживания. Вы обслуживаете население. Я не обслуживаю! Я делюсь с вами мыслями о мире, я пытаюсь разбираться в человеке. И как только театр стали воспринимать как сферу обслуживания, лет восемь назад, мы обязаны были собраться все вместе, провести протестное движение. Мы обязаны были закрыться и не работать. Мы обязаны были сделать чёрный гроб, написать на нём «Театр» и принести его к Кремлю. Но мы все поодиночке, у кого-то хорошие отношения с мэром, у кого-то своя рука в правительстве… И это приводит к тому, что сейчас, может быть, театр начнёт жить только как сфера обслуживания. В таких условиях невозможен никакой Товстоногов. Надо было режиссёрам собраться, объединиться. Мы должны были. Я пыталась что-то высказать, а потом поняла, что я как городская сумасшедшая.
– Надеюсь, Московский ТЮЗ никогда не превратится в «сферу обслуживания», а останется прекрасным оригинальным театром. Спасибо за труды, Генриетта Наумовна!