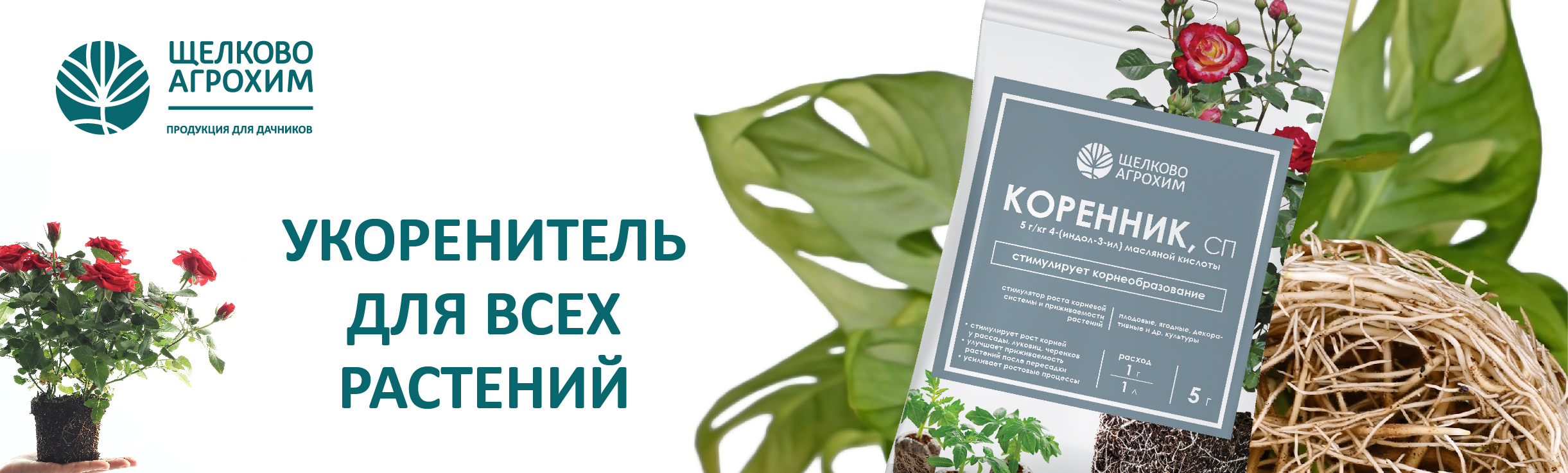У наших пращуров такого вопроса не возникло бы: индивид, отвергнутый обществом, и сам не выживал, и близким его ничего хорошего не светило. Даже когда общинно-племенная зависимость ослабла, забота о чужом мнении оформилась в понятие репутации, которую нужно постоянно поддерживать, оправдывая ожидания всех вокруг. Но даже когда человек был готов рисковать на поле брани ради статуса и славы, он всячески берёг от чужих взоров свою личную жизнь. Сегодня многое изменилось. Стать независимым от родичей сравнительно несложно. Зато репутацию легко потерять в результате нападок сотен хейтеров, которых не вызовешь в суд или на дуэль. Правда, выяснилось, что плохой рекламы не бывает и любое упоминание в эфире повышает ваш рейтинг. Так почему же люди озабочены чужим мнением пуще прежнего и сами же выставляют частную жизнь напоказ?
Странное дело
Любители простых ответов вправе фыркнуть: во всём виноват, мать его, Интернет, который превращает молодых в зомбированные мумии. Реальных навыков выживания у них ноль, заняться нечем, вот и бегают друг за другом с фоточками: здесь я с собачкой, здесь в купальнике, а здесь (подумать только!) на велосипеде. Но такой ответ не годится. Как же нет навыков выживания, если они к 30 годам побывали в таких странах, которых их родители-огородники даже названий не слышали? Как же заняться нечем, если у них к 20 годам свои ИП, банковские счета и налоговые декларации, которые они самостоятельно обслуживают? Ответ, как часто бывает, сложен и не подразумевает деления на «плохих» и «хороших». Что будет дальше, никто не знает, но можно сделать прогнозы, качественно отличающиеся от гадания на кофейной гуще.
Как уже рассказывали «АН», статус – первичная твёрдая валюта в нашей жизни, и так было всегда. Когда человек потом и кровью добивается богатства и славы, он ищет не бытового комфорта, а «всего лишь» признания своего превосходства над другими. Это знали Гомер, Аристотель и Христос, об этом львиная доля исследований современных психологов. Другое дело, что раньше статусные игры были довольно простыми, а почёт искали в основном на полях сражений. Место человека в иерархии зависело от его происхождения и властных полномочий, которые чаще всего тоже определялись местом рождения. Игра была одна для всех, а правила писались под королей, князей и епископов. Сегодня всё ровно наоборот: игр бесчисленное множество, а каждый человек играет сразу на нескольких полях.
Например, в александровской России почти про каждого можно было ясно сказать, кто есть ху. Фундаментом страны была армия, где все служивые были расфасованы по этажам пирамиды от ротмистра до фельдмаршала. Высокий статус военных как касты был непререкаем, а гвардейский офицер, женившийся на купеческой дочке, был обязан выйти из полка. Бизнес не создавал ещё идейного противовеса служению, а нарождающиеся капиталисты покупали первым делом не станки, а дворянство. Табель о рангах ясно делила гражданских чиновников на 14 классов, и не требовалось, как сегодня, гадать, кто круче: владелец ресторана или начальник отдела мэрии. На почтовой станции, где меняли лошадей, место в табели определяло и ваш номер в очереди. Не служите? Значит, получите коней последним.
Тем не менее табель о рангах определяла далеко не всё. Для дворянина было немыслимым снести не только оскорбление, а даже пустяковую шутку. Поэт Пушкин по юности стрелялся с другом Кюхельбекером из-за пассажа «кюхельбекерно и тошно». А до его знакомства с Дантесом вопрос о дуэли в жизни мирного стихотворца стоял ещё три десятка раз. Консервативный, замкнутый и щепетильный высший свет карал остракизмом любой намёк на недостойное поведение. И забота о чужом мнении выглядела вполне разумной.
Даже советский уклад в XX веке не позволял пойти против коллектива. До 1970-х большинство жили в коммунальных квартирах и обязаны были ходить на работу. Популярный фильм «Слово пацана» воспроизводит нам жёсткую клетку норм, в которой существовала городская молодёжь в перестройку: либо ты чушпан, либо ты с пацанами и живёшь под страхом нарушить не всегда адекватные пацанские заповеди. Не существовало ничего похожего на нынешние социальные лифты, когда можно втихаря заработать миллионы на бирже или в Интернете, купить дом на Беверли-Хиллз, спорткар и яхту. И смотреть свысока на любого генерала или аристократа.
Но если сегодня уже не деньги и не баронство определяют статус каждого из нас, то что тогда? Ни один мудрец не ответит! Нет больше общей системы координат и точки отсчёта. Губернатор может уступать в популярности малолетнему блогеру, живущему на родительском иждивении. Кто есть кто в деловом мире – тоже туманная тема. Савва Морозов или Джон Рокфеллер вряд ли управляют собственным крупным бизнесом. Корпорации возглавляют наёмные менеджеры, представляющие интересы безымянных акционеров. Даже у обычного труженика работа всё больше связана с удалёнкой. Да и в офисе стало возможным со всеми поддерживать «ровные рабочие отношения», а не сплетничать полдня в курилке. В личной жизни похожая неопределённость. Расстался с девушкой – выбирай новую из тысяч кандидаток на сайте знакомств. Товарищей по интересам тоже несложно отыскать.
Вроде бы нынешняя жизнь устроена так, что нам от чужого мнения невелика польза. Но тем не менее нынешний подросток по 80 раз в день проверяет телефон. Среди привычных причин самоубийств на первые места решительно выходит новая: интернет-непопулярность. Кто-то недополучил лайков и обиделся, кого-то толкнул в петлю едкий комментарий, кто-то не нашёл денег на новую статусную тачку. Пращуры нынешнего суицидника сошли бы с ума от имеющихся у него возможностей, а ему почему-то есть дело до насмешников над его 12‑летней «Шкодой». Хотя Александр Македонский отдал бы за такую пол-Персии и любимого коня Буцефала в придачу.
Но даже если персонаж на фотографиях в соцсети упакован по высшему разряду, современному обществу нет дела, сам он добился достатка или его папа. Хотя ещё недавно этот вопрос был бы ключевым. Наоборот, «красавчик» тот, кто рассмотрел короткий путь к славе и деньгам, а не бродил по нему до 50 лет. Молодёжь всё чаще уверена, что высокий статус даёт не место в иерархии, а свобода от неё.
Но тогда недорослю должно быть вообще до лампочки, что думают о нём одноклассники, педагоги и соседи. Скорее всего, никто не будет плевать в его сторону, даже если он побреется наголо и сделает татуировку на лбу. Но исследования говорят, что мнение посторонних людей, как никогда, в фаворе. Причём в самых развитых и толерантных странах.
Не всё так однозначно
Если под индивидуализмом понимать только стремление к независимости, то типичный американец покажется законченным индивидуалистом. Однако со времён знаменитых опытов Соломона Эша в 1950-е известно, что слишком много американцев готовы принять явно неверную точку зрения, если её разделяют другие члены группы. Суть опыта проста: испытуемым предлагали сравнить длину двух линий, а несколько «подсадных» давали в их присутствии неправильные ответы. И 68% американцев соглашались не поверить своим глазам. Среди европейцев таких было от 40 до 60% в разных странах. Зато в считающейся коллективистской Японии конформистов выявили всего 20%, а среди эскимосов Канады таких не нашлось вовсе.
Объяснение несложное и парадоксальное: стремление к индивидуальному успеху и независимости заставляет людей всё время переходить из одной группы в другую, обладающую более высоким социальным статусом. А на этом пути надо уметь приспосабливаться к мнению коллег. Теоретически индивидуализм подразумевает склонность человека к уединению, скрытность, нежелание посвящать других в свою частную жизнь. Но разве это про современного западного человека, при первой возможности бегущего от одиночества в бар и выкладывающего в социальную сеть каждый свой чих?
Аналогично Россия выглядит страной всепобеждающего коллективизма только на первый взгляд. В наше понятие «коллектив» входят обычно только родственники, коллеги по работе, соседи, чьё мнение необходимо уважать. Иностранцев, бывает, шокирует контраст между чуткостью русских по отношению к знакомым и их бесцеремонным хамством в общественном транспорте. Всё правильно – в трамвае с нами едут не «наши». И их мнение знать и уважать необязательно.
Русская забота об оценках окружающих специфическая. По мнению публициста Анны Фенько, наш человек не столько ценит коллектив как таковой, сколько недолюбливает тех, кто от него отбивается: «Личность – это «он», выскочка, добившийся богатства, власти или известности. А коллектив – это «мы», с которыми «он», личность, должен считаться. На человека, добившегося профессионального или личного успеха, в России смотрят с подозрением. Русский гораздо лучше умеет коллективно саботировать требования начальства, чем коллективно их выполнять. Большинство россиян уверены, что руководитель должен учитывать мнение коллектива при распределении премий и уметь прощать ошибки сотрудников. Таких 74 и 82% соответственно».
Оборотной стороной неприязни к выскочкам и карьеристам является терпимость к лихим и придурковатым выходкам вроде кругосветного плавания на старой автомобильной покрышке. Некоторые исследователи даже видят в готовности лично проверить, что лампочку изо рта вытащить невозможно, природную склонность к чудачеству и пренебрежению социальными нормами. Но если это так и есть, то не стоит удивляться, что русским вдвое реже американцев линии разной длины кажутся одинаковыми, если так считает коллектив.
Означает ли это, что россияне всегда и во всём более независимы, чем американцы? Подобных обобщений в науке быть просто не может. В нашей стране живут 145 млн человек, мотивация, интересы и представления которых различны. Наука изучает, по каким критериям людей можно объединить, какие факторы на какие группы влияют. При этом математически точного закона всё равно не видать, а хорошая теория – это когда здраво объяснено наибольшее количество известных фактов.
И вот что получается у многих исследователей: в нашем мире стремительно меняются не только модели айфонов, но и тренды, которым человек старается соответствовать. Это раньше человек чувствовал себя католиком или суннитом всю жизнь, а в секуляризированном мире колода ценностей тасуется так быстро, что опоры внутри себя уже не найти. На русских, эскимосов, японцев и американцев влияют одни и те же обстоятельства. Просто где-то традиционные начала «замедлили» их действие, а где-то передовое общество первым и столкнулось с невиданными доселе проблемами.
Нейронные империалисты
Вся «Илиада» Гомера – это описание статусных игр, где Ахиллес нагоняет себе рейтинг через ратные подвиги, Агамемнон – через собирание греческих земель, Парис – через обладание красивейшей из женщин. Великому воину Ахиллесу в голову не пришло бы беспокоиться о мнении людей, которые считали его, например, не слишком воспитанным. Рефлексия у древних была не популярна, хотя склонность к ней и развивали персонажи основанных на мифах трагедий от Ореста до Эдипа.
Древний афинянин содрогнулся бы от современной идеи, поделив себя на достоинства и недостатки, начать зачистку своей тёмной стороны. Это было бы диким кощунством по отношению к демонической части личности. Характер человека – это его демон, включающий стремление каждого к увековечению, самоутверждению, умножению, обратная сторона уверенности в себе, которая придаёт нам творческие силы. Характер понимался как упряжка храпящих лошадей, управление которыми требует всех сил. Стараться нравиться другим людям? Грек любил славу и участвовал ради неё в Олимпийских играх. Но зачем делать каждого встречного своим судьёй? Счастье (эвдемонизм) – это значит жить в гармонии со своим демоном. А какое мне дело до чужих?
К XX веку человек изменился. Гуманистические психологи от Абрахама Маслоу до Рональда Дворкина обратили внимание, что главная современная проблема – пустота. Переживание пустоты связано с ощущением бессилия что-то изменить в своей жизни: вот мы, дескать, и ждём от окружающих, что они заполнят вакуум внутри нас. Именно внутренняя пустота является приглашением для гуру и вождей с их красно-коричневыми, зелёными или радужными идеями. У нас в голове как будто закреплён радар, который подсказывает, что от нас ожидают окружающие.
Как образовалась эта пустота – вопрос дискуссионный. Одни исследователи считают, что проблемы начались во второй половине XIX века, когда Фридрих Ницше провозгласил «смерть Бога», зафиксировав массовое забвение европейцами христианских догм. Прогрессивные люди обожествили рациональное мышление и науку, которые не дали им никаких обнадёживающих смыслов. Ведь сказ про эволюцию, протоны, нейроны и Большой взрыв не даёт никаких надежд на будущее – как при жизни, так и после неё.
Другая часть исследователей, наоборот, винит религию в бессмысленности человеческого бытия. Церковь, дескать, требует постоянного подавления какой-то части личности под соусом «смирения гордыни» или «очищения души». Запуганный до трясучки описаниями адских мук обыватель, в любом своём шаге подозревающий грех, превращается во флюгер для проповедников всех мастей. В Средние века у него ещё была относительно стабильная картина мира, определённая Священным Писанием и сельским батюшкой. Но в городе XIX века на него обрушивается поток привлекательных идей, которые слабо сочетаются друг с другом.
Как следствие, мы до сих пор испытываем тревогу, когда не знаем, какие роли исполнять, какими принципами руководствоваться. За растерянностью следуют попытки подавлять те аспекты своего «я», которые не соответствуют всем нормам подряд. Но нельзя одновременно достигать своих целей и пытаться всем нравиться. Герой культовой пьесы «Смерть коммивояжёра» Вилли Ломан так и говорит: «Нравьтесь, и вы никогда не будете хотеть». Финал его жизни вряд ли кто-нибудь захотел бы повторить. Но нравиться всем подряд чаще всего пытаются люди, не заработавшие великих поводов для гордости. И ещё как пытаются!
Дейл Карнеги, как минимум, для двух послевоенных поколений был главным гуру по части заводить друзей, выступать публично и делать карьеру. Древнегреческие софисты впали бы от философии Карнеги в ступор: чтобы расположить к себе собеседника, предлагается «зеркалить» его позы и жесты, без конца улыбаться, не опровергать. Герои платоновских «Диалогов», наоборот, старались склонить оппонента к своей точке зрения за счёт логики. Как же можно его облизывать, если у вас с ним принципиальный спор? Что скажет ваш личный демон? И что будет с вашим мужеством?
Мужество ведь стартует из чувства собственного достоинства, а если я плохого мнения о себе, то я не могу быть мужественным. Древний грек, если верить Платону, хорошо понимал, что мужество – это способность противостоять отчаянию. А где взять силы, если не внутри себя? И откуда они там возьмутся, если постоянно тратишь их, чтобы произвести на других впечатление? Ведь самое мучительное унижение: когда ради чужого одобрения подавляешь себя. Начало выздоровления – когда перестаёшь посвящать свою жизнь тому, чтобы другие тобой восхищались.
Из этого не следует, что нужно перестать красиво одеваться, учтиво вести беседу и доказывать начальству свою компетентность. Как писал психолог и философ Ролло Мэй, зрелость человека определяется тем, что его жизнь интегрирована вокруг ценностей и интересов, которые он выбрал сам. Не нужно бояться выделиться, не соответствовать, ляпнуть глупость: «Верить в свою правоту и в то же время сомневаться – не противоречие, а залог большого уважения к истине». Но не глас ли это вопиющего в пустыне?
Оптимисты надеются, что человечество ждёт качественное совершенствование базовых ценностей. При хорошем раскладе мы постепенно осмыслим происходящее, и озабоченность чужим мнением станет рациональной. Искреннее восхищение успехами других будет вызывать не зависть и самоуничижение, а желание позаимствовать лучшие находки. Ценности будут формироваться путём обобщения и отбора из разных источников, а не полным заимствованием взглядов и стиля кого-то из селебрити. Людей наконец перестанет интересовать, что думает актёр об энергетической стратегии, а певец – об арабо-израильском конфликте. И мы перестанем перемывать кости не стоящим нашего внимания людям. В этом случае мы начинаем сравнивать их с собой, заочно спорить с ними и ждать подтверждения своей правоты.
Много всего
Конечно, не факт, что всё будет по уму. Обыватель и раньше умудрялся заблудиться в трёх соснах и верить то марксистам, то фашистам. А сегодня на его внимание претендуют тысячи «настройщиков душ». Один говорит, что самое важное – это высокая самооценка. Если ты ценишь себя, ты и к другим относишься уважительно, лучше работаешь, больше платишь налогов и в итоге делаешь свою страну процветающей. Но другой гуру уверяет, что всё ровно наоборот: самоуверенный нарцисс никогда не вникает в нюансы своей работы. Зато человек, сомневающийся в себе, будет всё по десять раз проверять, думать над проектом по ночам, обсуждать его с коллегами – и в итоге добьётся лучшего результата.
В одном бестселлере написано, что ключ к счастью – это грамотно на всё положить. То есть прекратить, как сказал бы писатель Пелевин, постоянную циркуляцию нечистот в своей голове: не реагировать на выпады, не поддаваться на провокации, не спорить. Но другой лидер продаж наставляет не бояться конфликтов. Ведь защита своего мнения – величайшая ценность, а победа в драке или споре – это важный источник энергии.
Длинная плеяда современных психологов вообще сомневается в способности человека контролировать своё поведение и нести ответственность за свои поступки. Они ссылаются на опыты с мышами, собаками и бурундуками, объясняя, куда подопытным зверюшкам подсоединяли какой провод с лампочкой, и как исследователь понял, что решение что-либо сделать они принимали ещё до осознания всех причин и следствий. Из этого следует феерический вывод, что свободы воли нет и у человека! Дескать, наши поступки определяет не душа, не сердце и тем более не разум, а нейрорефлекторные дуги.
Всё это неплохо заходит утончённой части молодёжи, которая видит решение вопроса о важности чужого мнения радикальным. Когда к ним в университет приходит умный седовласый профессор и рассказывает что-то задевающее их души, они топают ногами, требуя выгнать «токсичного» лектора в шею и никогда больше к ним не подпускать. Безопасность трактуется так: человек должен быть не только избавлен от риска попадания в ДТП, но и полностью защищён от общения с теми, кто не согласен с его мнением. Нежелательное мнение уравнивается с физическим насилием, дискуссии табуируются, чтобы недоросля не «разрушали» предметы, для изучения которых нужны усилия. Хотя наука стоит на праве всё подвергать сомнению, а гуманизм означает возможность высказывать своё мнение по любому вопросу. И стоит ли удивляться, что неспособные вести спор юнцы убиваются из-за чужих оценок в прямом смысле слова.
Призраки народа
Исследователям прошлого было раздолье. Изучая общество, они могли делить граждан на сельских и городских, на православных и иноверцев, на дворян, крестьян и купцов. Нынче так не выйдет.
Психолог Анастасия Никольская признаёт, что сегодня «палитра общественных настроений не монохромная, а цветная». А предлагаемая ею классификация оценивает, с одной стороны, идеологический базис людей, с другой – их психологический статус. Среди тех, кто с надеждой смотрит на государство, выделяются «пожилые», «великодержавники», «хранители status quo», «аполитичные». А критически настроены «псевдоаполитичные», «саудадисты», «оппозиционеры». И это только «большие группы», за пределами которых осталась уйма народу. И вся классификация выглядит как попытка придать наукообразие хаосу.
Кстати, одно из самых простых и спорных объяснений нашего общества гласит, что в течение 2010-х мы как раз утратили признаки народа. Нет никаких групп и подгрупп, есть десятки миллионов индивидуумов («единственных», как сказал бы Макс Штирнер). Люди до 40 лет преимущественно центрированы на себе, своём здоровье, комфорте и счастье, критичны к авторитету власти, церкви и старших. Они неплохо справляются без алкоголя, наркотиков и непрекращающейся болтовни.
Анастасия Никольская объясняет, что в 1990-е годы нас выбросили в свободный рынок, как ребёнка на улицу, когда никто не был к этому готов: «Прошло около 30 лет, мы в какой-то степени адаптировались и в массовом сознании дошли до подросткового возраста. Нет ещё сложившихся политических установок, нет устоявшихся траекторий, куда двигаться. Это подростковое сознание: я уже не с родителями, но ещё и не один».